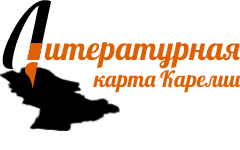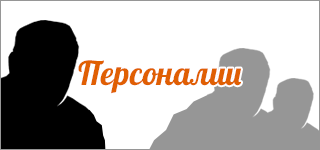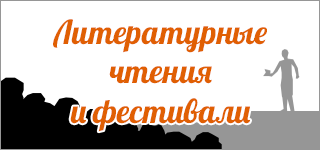Памятные места и знаки
Отрывки из очерка «Соловки», опубликованного Максимом Горьким после визита в концлагерь
В эти дни по всему Союзу Советов кинематограф показывает остров Соловки. Фильм этот я видел в Ленинграде после того, как побывал в Соловках; съёмка сделана в 1926 годуи уже устарела - в наше бурно текущее время даже и вчерашний день отталкивается далеко от сего дня.
Серое однообразие кино не в силах дать даже представления о своеобразной красоте острова. Да и словами трудно изобразить гармоническое, но неуловимое сочетание прозрачных, нежных красок севера, так резко различных с густыми, хвастливо яркими тонами юга; да и словами невозможно изобразить суровую меланхолию тусклой, изогнутой ветром стали холодного моря, а над морем - густо зелёные холмы, тепло одетые лесом, и на фоне холмов – кремль монастыря. С моря, издали, он кажется игрушечным. С моря кажется, что земля острова тоже бурно взволнована и застыла в напряжённом стремлении поднять леса выше - к небу, к солнцу. А кремль вблизи встаёт как постройка сказочных богатырей, - стены и башни его сложены из огромнейших разноцветных валунов в десятки тонн весом.
Особенно хорошо видишь весь остров с горы Секирной, - огромный пласт густой зелени, и в неё вставлены синеватые зеркала маленьких озёр; таких зеркал несколько сот, в их спокойно застывшей, прозрачной воде отражены деревья вершинами вниз, а вокруг распростёрлось и дышит серое море. В безрадостной его пустыне земля отвоевала себе место и непрерывно творит своё великое дело - производит "живое". Чайки летают над морем, садятся на крыши башен кремля, скрипуче покрикивают. (…)
На всём протяжении бытия своего монастырь являлся рассадником совершенно определённых идей. Очень простые и ёмкие, идеи эти заключают в себе самую сущность консервативного мракобесия и всю политическую мудрость мещанства: "Избави бог от образованных. Мужичок наш - работничек и кормилец, а образованный смуту сеет да неустройству всякому - глава". Именно эти идеи развивали идолопоклонники троицы "православие, самодержавие, народность", развивали от времен Александра I до Константина Победоносцева, и даже в наши дни, - под криками вражды к буржуазной культуре нередко слышится изуверская ненависть к "образованному" со стороны новых махаевцев и анархистов из мещан. Именно эти идеи ежегодно тысячи богомольцев распространяли по всей крестьянской и уездной России.
О культурном уровне соловецких монахов убедительно говорит тот факт, что, несмотря на богатейшие собрания исторических документов, накопленных в течение 500 лет, не нашлось ни одного монаха, который написал бы приличную историю сношений монастыря с Англией, Швецией, историю его участия в церковном "расколе" и так далее. Наиболее ценные документы, из боязни, что их "мыши съедят", были переданы монастырём казанской духовной академии.
Монахи и теперь живут на острове как "вольнонаёмные", плетут сети, ловят знаменитую соловецкую сельдь. Их там больше полусотни, живут они "как привыкли", в сторонке от "мира", тихонько работают, молятся в церкви. Их почти не видно среди очень грешного населения острова, лишь изредка мелькнёт, как тень далёкого прошлого, тёмная фигура, - длинное одеяние ещё более усиливает её сходство с тенью. Видишь такую фигуру, и вспоминается множество монастырей, вспоминаешь тысячи угрюмых чёрных церковников, "стражей грешного мира". Боясь бога, они не жалели людей и очень выгодно для обители меняли свой кусок хлеба на труд бездомных бродяг, на ласки обессиленных, ошеломлённых горем жизни деревенских баб, "странниц по обету". Труды и молитвы монашества нимало не мешали ему дополнять "Декамерон" Бокаччио, и нигде не слыхал я таких жирных, так круто посоленных рассказов о "науке любви", как в монастырях. А во всём прочем - удивительно бездарно было наше монашество, тогда как римско-католическое, не говоря о талантливости его миссионеров, о дьявольски ловко и широко поставленной во всём мире пропаганде, дало человечеству ряд крупных писателей, учёных, философов: Томаса Мора, Кампанеллу, Рабле, Менделя, Пристлея, выдвинуло таких организаторов, как Игнатий Лойола, Доминик, Савонарола, Франциск Ассизский. Ничего подобного не создала наша чёрная армия "захребетников" крестьянства.
На пароходе из Кеми в Соловки я спросил монаха:
- Как живёте?
- Не худо, бога благодаря...
- А начальство как относится к вам?
- Начальство тут желает, чтобы все работали. Мы - работаем.
Помолчав, он добавил: - Без работы и червь не живёт.
Я ждал, что он скажет: "и птица". Над пароходом летала чайка. Странно, что человек на море помнит о червях.
Монах был изрядно выпивши, но не очень многословен. В ответах его чувствовалась мужицкая осторожность, устойчивое недоверие к человеку из другого мира. Он - тощий, жилистый, на землистом лице реденькая серая бородка, бесцветные глаза спрятаны в морщинах и смотрят из них на море, на палубу, точно в щель. Наверное, он смолоду смотрел на землю и людей вот так прихмуренно, как смотрят в дырочку, и мир казался ему жутко маленьким, темноватым. С острова - мир безграничен и пуст, в нём можно жить спокойно, ни о чём не думая, ни за что не отвечая.
Я спросил монаха: не поколебалась ли его вера в бога?
Отодвинувшись от меня, он подумал и сказал: - Почто? Кому дано, да не отъемлется! Так учили нас. Так оно и есть.
- Люди становятся безбожны.
Он снова подумал и проворчал:
- Одно дело - люди, другое - монахи. (…)
Хороший, ласковый день. Северное солнце благосклонно освещает казармы, дорожки перед ними, посыпанные песком, ряд тёмно-зелёных елей, клумбы цветов, обложенные дёрном. Казармы новенькие, деревянные, очень просторные; большие окна дают много света и воздуха. Время – рабочее, людей немного, большинство - "социально опасная" молодёжь, пожилых и стариков незаметно. Ведут себя ребята свободно, шумно.
На крыльце одной из казарм стоит весьма благообразный старик. Сухое "суздальское" лицо его украшено аккуратной бородкой, на нём серый лёгкий пиджак, брюки в полоску, рубашка с отложным воротником, тёмный галстук. Ботинки хорошо вычищены. Он похож на "часовых дел мастера", на хозяина галантерейного магазина, - вообще на человека "чистой жизни".
- Фальшивомонетчик? - тихонько спрашиваю.
- Нет.
- Экономический шпионаж?
- Профессиональный вор. Начал с двенадцати лет, теперь ему шестьдесят три. Через несколько месяцев кончается срок.
Старик вежливо приветствует, независимо осматривая меня и моего сына. Знакомлюсь с ним, спрашиваю: что он будет делать, кончив срок?
- У меня - своя судьба, своя профессия, - охотно и философски просто отвечает он.
Серые, холодные глаза, круглые, точно у хищной птицы, бесцеремонно и зорко осматривают меня, моего сына, секретаря. Стоит он твёрдо, сухое тело его стройно и, должно быть, крепко.
- Трудно вам здесь?
- Нет. По возрасту не подлежу назначению на тяжёлые работы.
И, улыбаясь остренькой улыбкой, прибавляет:
- А если ошибся - плати! Так положено... Со шпаной этой, конечно, нелегко жить. Не на воле, где на них у нас управа есть. И побеседовать не с кем. Мелкота всё. А я, знаете, работал крупно. Может, помните, ещё до войны, писали в газетах о краже у Рейнбота, московского градоначальника? Моя работа. А также у банкира Джамгарова, у графа Татищева... Всё - я...
Усмехаясь, поглаживая бородку, он продолжает вспоминать "дней былых опасные забавы, шум успехов и улыбки славы".
- У Рейнбота засыпался. Выскочил он в ночном дезабелье, с реворвером в руках, присел за кресло, кричит и суёт реворвер в воздух, а реворвер - не стреляет! Не заряжен был, или предохранитель не открыт, или другое что, - не стреляет! Ну, конечно, на крик прибежали...
Он вздохнул и поморщился, но тотчас снова расцвёл.
- Смешно было смотреть на него: спрятался, кричит. А ведь военный и даже градоначальник. Неожиданность, конечно! Неожиданность всякого может испугать, - поучительно добавляет он...
- А знаешь, Медвежатник... в Болшеве.
Старик вырос, выпрямился ещё более, лицо его покрылось бурыми пятнами, несколько секунд он молчал, открыв рот, ослеплённо мигая, молчал и шарил руками около карманов брюк, как бы вытирая ладони. Было ясно, что он не верит, изумлён. Потом, сухо и сипло покашливая, вытянул лицо, щёки его посерели, он заговорил, всасывая слова:
- Ах, сволочь! Ссучился? Ах, сука! Такой суке - нож в живот! Повесить его надо, мерзавца! Ах ты...
Я отошёл прочь. В памяти остались холодные зрачки, покрасневшие белки хищных глаз и на губах кипящая слюна. Сколько мальчишек воспитал ворами, а может быть, и убийцами этот человек за пятьдесят лет его работы, сколько людей он толкнул в тюрьмы! (…)
Нашу беседу в казарме прервал молодой человек "мелкого калибра". Его довольно изящная фигурка ловко вывернулась из толпы, он вежливо поздоровался, подал мне лист бумаги, сложенный вчетверо, и заговорил о том, что "желает заслужить свой проступок". Но его речь заглушили громкие крики ребят:
- Это - шпион!
- Он не из нашей казармы.
- Он против советской власти.
А густой бас очень сердито и несколько смешно крикнул: - Такие компрометируют нас!
Шум возрастал, внушая мне подозрение, что парни "разыгрывают" меня. Но в голосах и на лицах я слышал, видел подлинное, искреннее презрение к маленькому человечку. Рябоватый парень, сосед мой, ворчал: - Мы - воры, а на такие штуки не ходим.
- Ври! Бывает и с нами!
- Так - в своем кругу, чёрт! Родину не продаём.
Человек замолчал, поглядывая на всех спокойно, прищурив глаза. В его позе была уверенность, что люди, давая волю языкам, воли рукам своим не дадут. Да и я видел, что презрение к нему не переходит в злобу. Но, очевидно, он весьма надоел всем.
- Приходит, проповедует.
- За дураков считает нас.
Кто-то говорит прямо в ухо мне: - Сам сознаётся, зачем его послали поляки.
Человек убеждал меня: - Да, я вину свою признал... Вот прочитайте. Обещаю служить честно. Я так много пострадал...
Он как-то расстроил, перепутал всё, вызвал хаос... Под шум голосов я прочитал его бумагу.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Заключенного воспитанника трудовой колонии Соловецкого концлагеря.
1927 года, октября 21 дня, я приговорён Криворогской Чрезвычайной сессией к 10 годам лишения свободы в силу ст.54-6 Украинского У.К. В преступлении я чистосердечно сознался перед судом, но преступление, совершённое мною, было лишь потому, что я совершил его по своей молодости. В 1919 году во время гражданской войны я утерял своих родителей и попал в одну из частей пулемётной команды Красной Армии набивщиком патрон в пулемётной линии, но в том же году попал к петлюровским войскам в плен, и благодаря моей молодости мне удалось сохранить жизнь. В начале 1920 года петлюровские войска эвакуировались в Польшу, в момент эвакуации мне пришлось уходить с ними, так как я был усыновлён поручиком Б... В начале 1924 года я был помещён в польскую школу и приют под назв. "Бурса УП" в гор.Варшаве. В 1925 году я был помещён в авиашколу - но на родину меня тянуло более сильным магнитом - я хотел уехать легально, - но не имел на то разрешения, мне пришлось принять поручение, данное мне.
Настоящим я даю подписку о том, что никогда преступлений делать не буду и буду заниматься исключительно честным трудом. И на основании этого прошу при совершении самого маленького преступления принять высшую меру (расстрел) и прошу Вас также на основании моей подписки заменить Соловки Красной Армией, колонией в Москве, а я со своей стороны даю клятву перед лицом Центрального исполнительного комитета и Коллегии ОГПУ, что буду принимать самое активное участие в работе.
Я действительно сознаюсь, что я сделал большое преступление - но я понимаю, какое я получил воспитание в Польше, - оно не соответствовало воспитанию, которое я мог бы получить в теперешней советской действительности, а также понимаю всё то, что сделано для меня во время пребывания в исправдоме и концлагере, а в частности, трудовой колонии. Я - молод, я – преступление совершил, но совершил лишь по своей молодости. Я прошу не отказать в вышеупомянутой просьбе и направить в Красную Армию, я с военной тактикой отчасти знаком, а остальное научусь, а если найдёте возможным, то исключительно по Вашему усмотрению.
21.VI.-29 г.
Мне сказали, что человечек этот принял на себя такой "заказ": проникнуть в комсомол, держаться линии ЦК, изучить горное и лесное дело. В комсомол он проник и вскоре "провалился". (…)
…суровый лиризм этого острова, не внушая бесплодной жалости к его населению, вызывает почти мучительно напряжённое желание быстрее, упорнее работать для создания новой действительности. Этот кусок земли, отрезанный от материка серым, холодным морем, ощетиненный лесом, засоренный валунами, покрытый заплатами серебряных озёр, - несколько тысяч людей приводят в порядок, создавая на нём большое, разнообразное хозяйство. Мне показалось, что многие невольные островитяне желали намекнуть:
"Мы и здесь не пропадём!"
Возможно, что у некоторых задор служит для утешения и преобладает над твёрдой уверенностью, но всё же у многих явно выражается и гордость своим трудом. Это чувствуется у заведующего кожевенным заводом; он - бывший заключённый, но, кончив срок, остался на острове и работает по вольному найму.
- В обработке кожи мы отстаём от Европы, а полуфабрикат у нас лучше, - сказал он и похвалил рабочих: - Отличные мастера будут!
В Мурманске я слышал, что мы "отстаём" и в деле производства лайки, посылаем её за границу полуфабрикатом, так же, как это делается в Астрахани с рыбьим пузырём.
Людей, которые, отбыв срок заключения, остались на острове и, влюблённые в своё дело, работают неутомимо, "за совесть", я видел несколько. Особенно значительным показался мне заведующий сельским хозяйством и опытной станцией острова. Он уверен, что Соловки могут жить своим хлебом, следит за опытами Хибинской станции с "хладостойкой" пшеницей, мечтает засеять ею триста гектаров на острове, переписывается с профессором Палладиным. Разводит огурцы, выращивает розы, изучает вредителей растений и летает по острову с быстротой птицы; в течение четырёх часов я встретил его в трёх пунктах, очень отдалённых один от другого. Показал конский завод, стадо отличных крупных коров, завод бекона, молочное хозяйство. Первый раз видел я конюшни и коровник, содержимые в такой чистоте, что в них совершенно не слышен обычный, едкий запах. Ленинградская молочная ферма гораздо грязнее. (…)
Молочным хозяйством заведует старый священник, кажется, протоиерей. Большой, благообразный, он солидно говорит о сепараторах, казеине, молочном сахаре, щелочных солях. На бородатом лице его сосредоточенно светятся под седыми бровями глаза человека, который давно остановился где-то очень далеко от людей и едва ли видит их такими, каковы они есть.
В просторном помещении как-то особенно чисто и прохладно. За стеклом шкафа, на полочках, ряд пробирок, колбочки, какие-то металлические вещицы. Рядом с этой "лабораторией", отделённый от неё узким коридором, - холодильник, в нём, на льду, огромные куски масла, корчаги творога.
- Добыча дня, - говорит священник, ударяя на "о". Он живёт тут же, рядом с лабораторией, в маленькой комнатке; в ней много икон, горит лампада, на столе – несколько церковных старопечатных книг, у стены - постель; в общем это - типичная келья монаха.
- Знающий человек, хорошо работает, - говорят мне. (…)
На торфе работает немало женщин в серых халатах, они же ворошат сено, неподалёку от разработки торфа. Там они одеты "в своё", довольно пёстро, и вызывают очень странное впечатление, - глядя на них, я вспомнил "Сказание о сеножатех" Лескова.
В женском двухэтажном общежитии, должно быть, монастырской гостинице, старостихой оказалась женщина из семьи, одним из членов которой был знаменитый в своё время французский карикатурист Каран д'Аш. Брат его командовал судном добровольного флота "Нижний-Новгород", сестра была актрисой, кажется, Александрийского театра, а третий брат служил поваром у нижегородского губернатора Баранова и за искусство жарить тетеревов назначен был сначала околоточным надзирателем, а затем - помощником частного пристава.
Старостиха показывает нам комнаты женщин, в комнатах по четыре и по шести кроватей, каждая прибрана "своим", - свои одеяла, подушки, на стенах - фотографии, открытки, на подоконниках - цветы, впечатления "казёнщины" - нет, на тюрьму всё это ничем не похоже, но кажется, что в этих комнатах живут пассажирки с потонувшего корабля.
В верхнем этаже общежития, должно быть, сосредоточены женщины, работающие "по линии культуры": в театре, музее. Мне сказали, что большинство их контрреволюционерки, есть и осуждённые за шпионаж.
Партийных людей, - за исключением наказанных коммунистов, - на острове нет, эсеры, меньшевики переведены куда-то. Подавляющее большинство островитян - уголовные, а "политические" - это контрреволюционеры эмоционального типа, "монархисты", те, кого до революции именовали "чёрной сотней". Есть в их среде сторонники террора, "экономические шпионы", "вредители", вообще "худая трава", которую "из поля - вон" выбрасывает справедливая рука истории.
В комнатах верхнего этажа женщин было немного, - пять, шесть, остальные, вероятно, где-то работали. В нижнем их оказалось значительно больше, и, судя по одежде, по обстановке, они были "попроще". Одна из них, молодая, пышнотелая, с большими глазами, встретила старостиху злым криком:
- Опять пришла, проклятая! Что же это, товарищи, вы ставите над нами интеллигенток? Как это...
Из её тёмных глаз легко и обильно потекли слёзы. Пожилая женщина с длинным носом на сером лице начала пренебрежительно"успокаивать её:
- Ну, что скандалишь, чем тебе люди мешают? Радоваться должна... - И, обращаясь к нашей группе, - объяснила:
- Нервы у неё, срок она кончила, сегодня домой едет, ну, вот и шумит...
Молодуха, разговаривая, уже улыбалась и, смахивая слёзы со щёк, обнаружила на белой коже руки, ниже локтя, сложную, весьма неблагочестивую татуировку.
- Это что у вас?
- Ну, не видишь будто! Наколочка, - кокетливо ответила она, смеясь, и этот её слишком быстрый переход от слёз к смеху вызвал сомнение в искренности и смеха и слез. А носатая женщина угодливо объясняла:
- Дурашливая она, а - хорошая, добрая...
- За что она здесь? - тихо спросил кто-то за моей спиной, - носатая не успела ответить, рядом с нею очутилась высокая, костлявая, в белом платочке до бровей, платок резко оттенял чёрные, круглые глаза.
- Мы этим не интересуемся, - заговорила она тоже тихо. - У всякой своё клеймо. Клеймят и клеймят, а - за что? Это никому, кроме бога, не известно...
Тут вступилась молодуха:
- Ты - не знаешь, за что тебе хвост прищемили, не знаешь? - иронически спросила она.
Мы все вышли из комнаты. В коридоре признала меня земляком дородная баба, лет за сорок, с жестяными глазами на толстом лице.
- Чай, слышали про нас, - она назвала незнакомую мне фамилию, - мы тоже заметные люди были в Нижнем-то! Помните поговорочку: "Чай, примечай, откуда чайки летят"?
В одну минуту она, усмехаясь, мигая, рассказала бойко, точно базарная торговка:
- На десять годков сюда послали, - пошутил господь! Будто рабочих выдавала я, жандаров прятала в осьнадцатом году, что ли, а - неверно это, неправда всё, наговорили на меня злые люди! Ну, ничего, потерплю...
- Трудно вам здесь?
- Везде трудно, - осторожно ответила она и повторила: - Пошутил господь, терпенье моё испытывает. Ну, я - здоровая, душой весёлая...
Говоря, она привычно играет остреньким взглядом жестяных глаз, они холодно щупают человека, точно ищут, куда лучше ударить. (…)